Высокогорный Кавказ — царство камня, и архитектура горцев,
населяющих эту страну, под стать самой стране. Кавказские горы — это
природная крепость, и как в настоящей крепости здесь все сложено из
камня. У берегов бурных рек и на головокружительной высоте по скалистым
склонам застыли осетинские селения — теснящиеся друг к другу низкие
каменные сакли с плоскими крышами, окруженные башнями и склепами.
Ритмическое чередование низких жилых и хозяйственных построек с
высокими башнями придает горным селениям особый и выразительный
архитектурный облик, чем-то напоминающий ритмику застройки современного
большого города. Трудно представить себе пейзаж горной Осетии без них —
настолько гармонично и естественно селения слиты с окружающей их
природой. Национальные архитектурные памятники Осетии внешне
незатейливы и лаконичны. Они лишены какой-либо вычурности и излишества:
эстетическим идеалом была мудрая простота и строгость, наилучшим
образом отражавшая душу простого и мужественного народа.
В глубине Даргавского ущелья, на правом берегу реки Гизельдон,
расположилось древнее селение Даргавс. Хорошая шоссейная дорога за
какие-нибудь час-полтора езды от г. Орджоникидзе поднимает нас на
Зеленый перевал. Позади остаются теснины Геналдона и горный курорт
Кармадон, вокруг — зеленеющие альпийские луга и ледяные вершины
Главного хребта, внизу серебристой змеей вьется Гизельдон и видны дома
и башни Даргавса.
Селение встречает нас высокой аркой с приветливой надписью: «Уазаг,
агас цу» — «Гость, здравствуй». В центре Даргавса большая
школа-интернат, сельсовет, почта, библиотека, медпункт, магазин,
опорный пункт Горского сельскохозяйственного института, клуб. Здесь же
— небольшой сквер с белокаменным обелиском. Это памятник сынам
Даргавского ущелья — воинам Советской Армии, павшим в годы Великой
Отечественной войны. Такие скорбные памятники можно видеть почти в
каждом осетинском селении.
Даргавс лежит в центре горной котловины ледникового происхождений.
Долина достаточно велика (ее длина 16 км), хорошо освещается и
прогревается солнцем, орошается реками, имеет большие и столь редкие в
горах ровные площади, удобные для земледелия. Пологие склоны окрестных
гор были искусственно террасированы и также обрабатывались— следы
террас хорошо видны. Такие благоприятные для жизни места в высокогорье
встретишь нечасто, и неудивительно, что Даргавс в прошлом был центром и
наиболее крупным населенным пунктом Восточной Осетии — Тагаурии. Он и
сейчас представляет такой местный центр, ибо остальные селения ущелья —
Фазикау, Какадур, Джимара, Хуссар-Ламардон — тяготеют к Даргавсу.
Жизнь в Даргавсе зародилась давно. Еще до революции археолог П. С.
Уварова раскопала здесь несколько каменных ящиков, датируемых VIII—XII
веками. Однако можно думать, что Даргавская котловина была заселена
гораздо раньше — в эпоху кобанской культуры. Ведь прославленный Кобан и
его памятники находятся рядом, всего в 7—8 км севернее за местным
перевалом Кахтысар.
Архитектурные памятники Даргавса, которые мы можем видеть сейчас, не
такие древние и относятся к позднему средневековью (не раньше XV века).
Прежде всего это башни.
В верхней части селения на обрывистом берегу Уаллагдона стоит одна из
лучших и наиболее известных в Осетии башен — боевая башня — «масыг»
Мамсуровых. Даргавская фамилия Мамсуровых выдвинула из своей среды
блестящих культурных, государственных и общественных деятелей — первого
осетинского поэта XIX века Темирболата Мамсурова, председателя
Совнаркома Горской республики Саханжери Мамсурова, писателя Дабе
Мамсурова, Героя Советского Союза генерал-полковника Хаджиумара
Мамсурова. Род Мамсуровых в старину был известен своими мастерами —
строителями и кузнецами, и надо думать, они сами сложили свою башню —
оплот силы и могущества рода. Коста Хетагуров в стихотворении «Плачущая
скала» так описал сооружение боевой башни:
«Работа быстро закипела.
На мшистых каменных плечах
Утеса положили смело
Подножье стен — пусть знает враг,
Какой незыблемой заставой
Ему здесь загородят путь.
С какой отчаянной отвагой
Здесь каждый грудью встретит грудь!
Как — страха, жалости не зная —
Здесь все решились, как один,
Погибнуть, кровью истекая,
Как честь страны, свободу края
Ценить умеет осетин!
Лучи багрового заката
Погасли на вершине гор...
К ночлегу возвратилось стадо...
Кипит работа до сих пор.
Подножье — широко и прочно,
На нем, как вылита, стена,
И все срослось с скалою, точно
На башне выросла она»[1].
Сложенные на известковом растворе и сужающиеся к верху стены
действительно как вылиты. Они гладки и прочны, а башня, подобно
донжонам европейских средневековых замков, величественна и неприступна.
Арочный вход в нее находится на высоте 2 м — в случае опасности люди
поднимались по приставной деревянной лестнице, втаскивали ее за собой,
запирали окованную железом дверь, и башня была готова встретить врага
градом пуль из прикрытых машикулями бойниц, камнями и кипятком с
верхней зубчатой площадки.
Башня Мамсуровых, как и большинство осетинских боевых башен, имела
четыре этажа, сообщавшихся между собою при помощи люков в междуэтажных
перекрытиях и лестниц. Перекрытия между первым и вторым этажами в
башнях Тагаурии обычно сводчатые, выложенные из камня. Первоначально
они поддерживались двумя пересекающимися в центре свода арками, но
впоследствии местные мастера освоили технику ложного свода настолько
хорошо, что арки в качестве конструктивного элемента стали ненужными.
Однако они сохранились как чисто декоративный элемент: пересекающиеся
нервюры расчленяют свод, а в точке пересечения заключен замковый
камень. Остальные междуэтажные перекрытия делались из бревен,
вставлявшихся концами в специальные пазы в стенах. 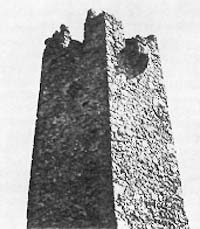 Фрагмент боевой башни Мамсуровых |
Верхняя часть башни оживлена четырьмя нависающими
балкончиками-машикулями (по одному на каждой стене) и декоративным
ромбом на восточной стене. Ромб образован шестнадцатью симметрично
расположенными квадратными отверстиями. Высота башни 15 м.
Строительство боевой башни обходилось очень дорого. Есть сведения о
том, что один большой отесанный камень для угловой кладки равнялся
стоимости овцы. Понятно, что воздвигать башни могли только сильные и
многочисленные, крепкие экономически фамилии. Пользуясь феодальной
заповедью «сила родит право», такие могущественные фамилии стремились
утвердить за собой приоритет в сооружении боевых башен и ввели даже ряд
ограничений. Так, слабые и зависимые фамилии имели право строить башни
только до половины высоты, иначе их разрушали. Существовало также
правило, что постройка башни должна быть закончена в течение года. В
противном случае она оставалась недостроенной. Сходные табу бытовали
также у чеченцев и ингушей.  Жилая башня Дегоевых |
Считается, что более древними являются жилые башни. Одна такая жилая
башня — «ганах» фамилии Дегоевых — сохранилась в Даргавсе. Она стоит на
левом берегу Уаллагдона выше башни Мамсуровых. Минуя глухие каменные
ограды дворов, по узкой сельской улице пройдем к ганаху. Он куда
массивнее и приземистее стройной боевой башни. Это и понятно — мы имеем
дело по существу с двухэтажным жилым домом, служившим его обитателям
одновременно и крепостью. В соответствии с назначением мы не найдем
здесь никаких признаков архитектурного декора — ганах исключительно
строг и рационален.
Низкая дверь с арочным завершением ведет в нижний этаж. Он был
предназначен для скота. Жилым был второй этаж, ныне обвалившийся.
Попасть туда, как в боевую башню, можно было по приставной лестнице,
убиравшейся в минуту опасности. Жилое помещение большое (7,50x6,0 м) и
перекрыть его без промежуточных опор было трудно. Поэтому посредине
здания через оба этажа проходит опорный столб, сложенный из камня. Он
поддерживал центральную балку-матицу, к которой на железной цепи
подвешивался очажный котел. Очаг же играл особую роль в организации
интерьера: он был не только притягательным центром для всех членов
семьи, но и священным атрибутом жилища. У осетин существовал
специальный покровитель очага — Сафа; народное предание гласит, что
Сафа сделал первую очажную цепь и опустил ее с неба. По подобию ее
земные кузнецы стали ковать очажные цепи. Снять и выбросить очажную
цепь, залить очаг водой — было самым тяжким оскорблением, которое
влекло за собой кровную месть. «Когда осетина призывают в свидетели,—
отмечал известный этнограф М. М. Ковалевский,— он клянется своими
предками, своим домашним очагом и его цепью»[2]. 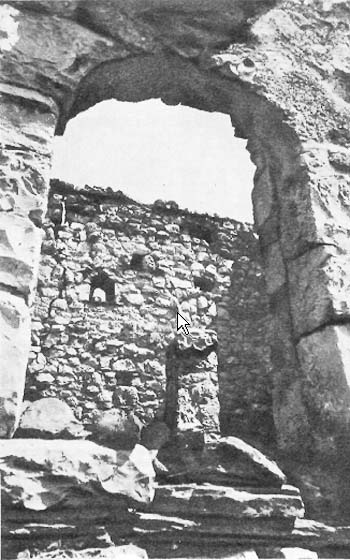 Внутренний вид жилой башни Дегоевых |
В основном осетинском жилом помещении — «хадзаре» — кроме очага
непременно находилось резное деревянное кресло для старшего мужчины,
низкие трехногие столики для еды — «фынги», выдолбленная из ствола
дерева кадушка для воды, деревянные самодельные кровати, лавка, на
полках расставлялась деревянная и глиняная посуда, на стене почетное
место занимало холодное и огнестрельное оружие. Все детали убранства
хадзара воспроизведены в экспозиции музея краеведения в г.
Орджоникидзе.
Башенная архитектура Осетии многими чертами и строительными приемами
связана с архитектурой склеповых сооружений — те и другие в целом
одновременны и возводились одними мастерами в духе сугубо местных
строительных традиций. Со склепами горной Осетии достаточно подробно
можно познакомиться в Даргавсе: здесь находится крупнейший на Северном
Кавказе склеповый могильник, образно именуемый «городом мертвых».  Старинный осетинский стул.
Северо-Осетинский музей краеведения |
По солнечному южному склону горы Раминырах спускаются вниз к реке
светло-желтые постройки этого необычного города, где нашли вечный покой
целые поколения горцев. «Город мертвых» так органично слит с окружающим
пейзажем, что нельзя представить Даргавское ущелье без «города
мертвых»; особенно хорошо он смотрится в солнечный день с
противоположной стороны котловины — из Фазикау и Какадура.
Архитектурный ансамбль «города мертвых» состоит из 95 сооружений,
относящихся к трем основным типам: надземные склепы с
пирамидально-ступенчатым перекрытием, надземные склепы с двускатным
перекрытием, полуподземные склепы, впущенные одной стороной в склон.
Наиболее несложны по конструкции и непритязательны полуподземные
склепы. Прямоугольные камеры сложены из больших, грубо обработанных
плит и камней; стены на высоте примерно полутора метров начинают
переходить в ложный свод, характерный для горнокавказского
строительства. В продольных стенах делались пазы, в которые вставлялись
деревянные балки. На них клался настил из досок. Через узкий квадратный
лаз в фасадной стене вносили умерших и укладывали их на настиле. Затем
лаз закрывали деревянной дверцей с задвижкой. Так склеп с течением
времени становился коллективной усыпальницей для нескольких поколений
людей, принадлежащих к одной фамилии.  Кресло, украшенное резьбой.
Северо-Осетинский музей краеведения |
Двускатные склепы построены по тому же принципу: в плане они также
вытянуто-прямоугольные, но сооружены полностью на поверхности земли и
имеют более сложную конструкцию перекрытия. Внутри оно представляет
собой ложный свод, а снаружи это двускатная кровля с рядами выступающих
сланцевых полочек. В фасадной стене непременный четырехугольный лаз. В
склепах этого типа устраивалось два этажа для погребений.
Самыми монументальными и величественными были склепы с пирамидально-ступенчатым перекрытием.  Осетинские пивные чаши из дерева.
Северо-Осетинский музей краеведения |
В плане они квадратны. Камера деревянными настилами разделена на три
этажа. Каждый этаж имеет свой четырехугольный лаз, доступный с земли.
Некоторые этажи настолько наполнены погребениями, что проникнуть внутрь
склепа невозможно: нет свободного места. Своды этих склепов высокие и
весьма колоритные — по всем четырем граням они густо украшены рядами
выступающих сланцевых полочек, а в верхней точке свода обычно ставился
пирамидально отесанный камень — навершие. Ритмично расчлененный рядами
полочек и увенчанный навершием свод получал стройность и завершенность.
Полочки имели не только декоративное, но и практическое назначение —
перекрывая ступени свода, они препятствовали приникновению воды в
кладку свода и его разрушению. Горный климат изобилует осадками, и это
обстоятельство было учтено строителями.
Архитектура склепов этого типа некоторым дореволюционным авторам
казалась недоступной местному населению. Исходя из ложных представлений
о неспособности горцев к культурному творчеству, А. М. Дирр осетинские
склепы с пирамидально-ступенчатым перекрытием связывал со ступенчатыми
башнями храмов Анкоры в Камбодже.
«Я в другом месте указал на факт, что Кавказ не имеет собственной расы;
он, по всей вероятности, не имеет и собственной культуры»[3],— писал А.
М. Дирр.
Сооружение больших трехъярусных склепов стоило дорого, и оно было под
силу наиболее богатым фамилиям горцев. Поэтому таких склепов в Даргавсе
немного — 14, а наиболее простых полуподземных склепов 61; следует
полагать, что в этих цифрах отражена довольно достоверная картина
социального расслоения осетинского общества Тагаурии.
Долгое время изучавшие склеповые сооружения специалисты считали, что
разные их типы представляют хронологический ряд: полуподземные древние
(IX—XIV века), а надземные двускатные и четырехскатные — поздние
(XIV—XVIII века). Но поскольку в подобных склепах никто не вел
систематических раскопок, а вещественный материал из них был невелик,
указанные выводы были обоснованы недостаточно.
Почему склепы Осетии долгое время не изучались? До революции это было
исключено — всякий, кто рискнул бы проникнуть в склеп, мог поплатиться
за это жизнью. Теперь положение коренным образом изменилось. Осетины —
народ сплошной грамотности и высокого культурного уровня, они с полным
пониманием относятся к работе исследователя и проявляют живейший
интерес к своему историческому прошлому. И тем не менее до 1967 года
археологических работ по изучению этих ценнейших памятников почти не
велось.
Археологи не занимались надземными склепами потому, что считали их в
основном поздними и выходящими за пределы ведения археологии. Этнографы
не исследовали их потому, что раскопки считали делом археологов.
Известную роль сыграла и «дурная репутация» склепов. Народ окружил
склепы — «заппадзы» — мрачными слухами и поверьями. И сейчас в Осетии
еще можно услышать традиционные рассказы о том, что в старину в горах
бушевала эпидемия чумы, уносившая тысячи жизней. Чтобы не заразить
здоровых людей, больные целыми семьями, с детьми на руках, уходили в
заранее построенные склепы и там умирали. А оставшиеся в живых боялись
даже подходить к склепам.  «Город мертвых». На переднем плане река Гизельдон |
Эпидемии в горах дореволюционной Осетии действительно бывали. Вот
страшные цифры: в результате чумы, свирепствовавшей в конце XVIII—
первой половине XIX века, население страны с 200 тысяч человек
сократилось до 16 тысяч! Осетины находились тогда на грани вымирания.
Не удивительно, что эта трагедия так глубоко запечатлелась в памяти
народной. Но означает ли все сказанное, что осетинские склепы опасны и
содержат в себе «заряд» чумы?
Конечно, нет. Когда в 1967 году мы впервые приступили к раскопкам в
«Городе мертвых» Даргавса, были предприняты меры предосторожности.
Специальные пробы показали отсутствие чумных бацилл, но нам все же
пришлось работать в резиновых перчатках. Зато как были вознаграждены
археологи, перешагнувшие Рубикон! За три года раскопок была составлена
уникальная и обширная (до 1500 предметов) коллекция, широко освещающая
быт и культуру населения Тагаурии в XVII—XIX веках. Одежда и обувь,
глиняная, деревянная и стеклянная посуда, женские ювелирные украшения,
предметы мужского костюма, оружие и некоторые орудия труда — такой
полной и многосторонней коллекции по этнографии осетин нет ни в одном
музее. Эта коллекция изменила и уточнила многие старые, иногда неверные
представления и показала, что в действительности склепы разных типов
были одновременными. Все они использовались в течение длительного
времени— в XVII—XIX веках. В 30-х годах XIX века осетины с гор начали
переселяться на предгорную равнину. Только тогда были прекращены
погребения в склепах.  Склепы «Города мертвых» |
Облицованные желтой штукатуркой монументальные склепы, более
внушительные, нежели жилье, обильный погребальный инвентарь — яркие
доказательства бытования у осетин чрезвычайно архаичного культа
мертвых. А какими интересными обрядами и фольклорными сюжетами он
оброс! Осетины верили в существование таинственной страны мертвых,
владыкой ее был Барастыр, а привратником — Аминон. Умершему мужчине
посвящали коня. Аланы клали убитого коня или части его туши в могилу
воина, осетины же поступали более рационально: коню символически
надрезали ухо, а затем трижды обводили его вокруг покойника со
специальной молитвой. Этот обряд называется «бахфалдисын» — посвящение
коня. Он прекрасно изображен на картине талантливого и самобытного
художника Махарбека Туганова, внесшего огромный вклад в развитие
изобразительного искусства Осетии.  Посвящение коня покойнику. Картина М. Туганова.
Северо-Осетинский художественный музей. |
Некоторые погребенные были заключены, по всей вероятности, в долбленные
из ствола дерева колоды. Аналогичные колоды практиковались в позднем
средневековье и у других народов Кавказа — кабардинцев, балкарцев,
чеченцев. Но вот погребение в ладье — факт не зафиксированный у
соседних народов. Ладьи, вернее ладьевидные колоды, были встречены нами
в Даргавсе неоднократно, а около одной ладьи было даже положено...
весло! Зачем оно в заоблачной выси, где самые крупные речные потоки
абсолютно не судоходны?
Конечно, дело не в судоходстве. Плавать на ладье в Даргавсе негде.
Объяснение этой загадке нужно искать в каком-то неизвестном нам, еще не
изученном и не раскрытом древнем культе, сохранившемся у осетин чуть ли
не до нашего времени. Здесь поневоле вспоминается погребение знатного
руса в ладье, ярко описанное арабским путешественником X века
Ибн-Фадланом, а также мифическая река подземного царства Стикс, через
которую души умерших переправляет на ладье перевозчик Харон. Но есть ли
какая-то внутренняя связь между этими древними представлениями и
погребениями в ладьях «Города мертвых»?
В погребальном инвентаре «Города мертвых» много привозных вещей:
восточные ткани, русская стеклянная посуда и бутылки, табакерки,
грузинская и дагестанская керамика, дагестанская инкрустация металлом
по дереву. Отсюда видно, что горная Осетия отнюдь не была изолирована
от внешнего мира, хотя хороших дорог до XIX века не было. Восточная
Осетия — Тагаурия — прилегает к Военно-Грузинской дороге, местная
горская верхушка контролировала ее северную часть и взимала здесь
пошлину за проезд и провоз товаров. Так в Даргавс могли попасть
некоторые иноземные вещи.
Вместе с тем многие вещи попали сюда в конце XVIII — начале XIX века из
русских городов Моздока и особенно Владикавказа. Заложенный в 1784 году
как крепость на Тереке при северной оконечности Военно-Грузинской
дороги, Владикавказ быстро разросся и стал в этой части Кавказа крупным
рынком. Под защитой Владикавказской крепости около нее стали селиться
осетины — переселенцы из Тагаурии. Они-то, очевидно, и стали связующим
звеном между Владикавказом и Даргавсом, при их посредстве в ущелье
Даргавса потекли русские «колониальные» товары — ведь расстояние от
города до Даргавса составляет всего 46 км. Владикавказ и его рынок
сыграли крупную роль в вовлечении Осетии в сферу развивавшихся в России
капиталистических отношений, в исторически прогрессивном сближении
осетин с русским народом и русской культурой. Все эти большие сдвиги в
жизни народа так или иначе отразились в материалах из «Города мертвых».
Мы уже говорили, что среди северокавказских «городов мертвых» Даргавс
является самым большим и богатым. Действительно, «Город мертвых» у
селения Верхняя Балкария и чеченский некрополь Цой-Педе значительно
меньше и скромнее. Ясно, что количество склепов находится в прямой
зависимости от численности населения, и в этом смысле Даргавс
представляется нам одним из наиболее густо населенных пунктов всего
Центрального Кавказа, занимавшим не последнее место в материальной и
духовной жизни горцев. Здесь было многотысячное население — поэтому и
вырос на берегу Гизельдона самый значительный склеповый могильник,
селение ощетинилось башнями, а вокруг него сложилось около десятка
языческих святилищ, посвященных целому пантеону во главе с верховным
божеством «Хуцау».  «Город мертвых». Глиняные кувшины |
Видимо, также не случайно недалеко от Даргавса возникло популярное
святилище «Тбау-Уацилла» на вершине могучей скалистой горы Тбау-хох.
Это была великая святыня Тагаурского общества. Вокруг нее
разворачиваются события романтической повести В. Я. Икскуля «Святой
Илья горы Тбау». Как и в Рекоме, вход в святилище «Тбау-Уацилла» был
дозволен лишь жрецу. Вот как повествует В. Я. Икскуль об этом:
«Один Заур, он старший рода, восходит на вершину Тбау. Он держит в
правой руке березовый шест, в это же утро принесенный им из священной
рощи. На острие его насажена голова барана со шкурой, висящей при ней.
В левой руке Заур держит кружку пива и три пирога с сыром, завязанные в
платок.  «Город мертвых». Пивные бокалы и кружка из дерева |
Медленной походкой поднимается старец по крутой горе. Он один имеет
право ступить на святую вершину, и то только раз в год, чтобы принять
от бога откровение.
Уже потухает последний розоватый отблеск на западе, уже холодный туман
затягивает вершины гор. Перед ним простирается плоскость, скудно
покрытая травой и слегка спускающаяся к северу. Посередине возвышается
алтарь из необработанных камней, почерневший от времени. На нем
истлевшие остатки прошлогодних жертвоприношений. Заур помещает
принесенные дары на стол божества. 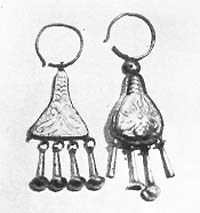 Серебряные серьги
из Города мертвых» |
Около трехсот шестов березового дерева стоят вблизи; на многих висят
еще головы и шкуры дарственных животных, другие упали, и дождь, мороз и
солнечные лучи уничтожили жертву. Священнослужитель, совершающий
таинство, должен каждый год втыкать в землю шест с посвящением
ангелу»[4]
Поднимемся на вершину склона, где стоит «Город мертвых». Здесь всегда
гуляет холодный ветер, рвущийся с гор в долину. Против нас на той
стороне реки возвышается розово-серая громада Тбау-хоха, а у самой ее
подошвы вдали можно заметить какие-то белеющие сооружения. Это еще один
«мертвый городок», принадлежащий покинутому селению Хуссар-Хинцаг.
Расстояние до него по плоскому дну долины не превышает 3 км, и если мы
доберемся до руин, то будем вознаграждены. С возвышенности
Хуссар-Хинцага открывается чудесный вид на все Даргавское ущелье,
обрамленное на юге ледяными вершинами во главе с Джимарай-хохом. Внизу,
почти против нас, сверкающее зеркало водохранилища первой горной
гидроэлектростанции Гизельдон ГЭС. А здесь — мертвые руины жилых домов,
среди которых буйно цветут заросли крапивы, а по крутым пустьшным
улицам мелькают ящерицы и полевые мыши. На господствующей над бывшим
селением скале высятся две башни со слепыми провалами бойниц — остатки
родового замка Мамсуровых. Но самое любопытное — маленький «Город
мертвых» на южной окраине этого небольшого селения. Он состоит всего из
нескольких склепов, но чрезвычайно живописен; особенно привлекает
внимание склеп, остроумно пристроенный к скале. Этот прием — слияние
архитектурного памятника со скальным рельефом — был хорошо известен
народным зодчим и нередко использовался при возведении боевых
сооружений (например, башни, скрывающие за собой пещеры, в Нузале и
Дзивгисе).  Хуссар-Хинцаг. Склеповый могильник.
На заднем плане гора Тбау-хох |
В полутора километрах к северу от покинутого Хуссар-Хинцага ущелье
сужается, образуя узкий каньон. Теснина его завалена громадными кусками
скал и массой камней, накопившимися в этом узком месте благодаря
тысячелетней ледниковой деятельности. Это так называемая конечная
морена древнего ледника. Над продолжающимся далее к северу Кобанским
ущельем этот гигантский утес возвышается на 503 м; осетинское название
его «Кахты сар». С края «Кахты сара» Кобанское ущелье видно как на
ладони; оно у наших ног. Вниз прихотливым серпантином змеится узкая
пешеходная тропа, а прямо по отвесной круче проложена линия бремсберга.
Небольшой вагончик, влекомый стальным тросом, за несколько минут
доставит нас вверх, на недавно открытую турбазу «Кахты сар». Отсюда
рукой подать и до Кобана, и до Даргавса, и до Хуссар-Хинцага с их
горными ландшафтами и интереснейшими памятниками старины.
Теперь, познакомившись с Нузалом, Рекомом, Даргавсом, мы можем воочию
видеть, что осетинский народ в эпоху средневековья выработал
собственный архитектурный стиль, органически связанный с архитектурой
горного Кавказа в целом. Архитектура горной Осетии — это наделенный
специфическими чертами национальный вариант общекавказской
архитектурной школы, а горнокавказская архитектура — один из тех
ручьев, которые, сливаясь, образуют единый и мощный поток древнего
культурного творчества советских народов.
В. А. КУЗНЕЦОВ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРЕВНИЙ ИРИСТОН»
МОСКВА «ИСКУССТВО» 1974
| 





