|
|
 | |  |
|
Аланский триколор
Развитие этического сознания находится в тесном взаимодействии с
множеством факторов. Наибо-лее важные из них можно свести к
своеобразному этносоциокультурному феномену. В этой трехмерной
структуре культурный фактор выражает функции самоутверждения и
самовыражения. В данном случае вспоминаются важные функции этнической
культуры. С одной стороны, интеграция, а с другой – дезин-теграция.
К
числу форм этнокультурного самоутверждения и самовыражения относятся
геральдическая симво-лика, героические персонажи, национальная
колористика, знамена и прочее. Среди атрибутов этнополи-тической
символики знамя занимает видное место. Престижность этого факта
культуры в новейшее время определяется его истоками. В одной из работ
мной была показана возможная причина – знамя является одним из
многочисленных инвариантов мифологического образа «мирового древа» (1,
с. 114–133).
В настоящей работе наше внимание будет привлечено к
знамени как этнополитической символике. В этом смысле оно еще не
привлекало внимания моих коллег. Вероятной причиной этого положения
явля-ется слабая источниковедческая база. Я попытался мобилизовать все
возможные сюжеты для реализа-ции поставленной цели. Насколько мне это
удалось, судить будут читатели.
В этнической культуре осетин и
их предков знамя было представлено несколькими разновидностями. Они
различались по форме, размеру, цветности и декору. В доступных нам
древних и средневековых хрониках, иконографии и историческом фольклоре
осетин знамя предстает как атрибут военного дела. Обратимся к
письменным источникам античного времени.
В первую очередь
вспомним эпического поэта второй половины I века н. э. Валерия Флакка.
В его по-эме «Аргонавтика», не оконченной или не вполне сохранившейся,
в VI книге, упоминаются специфиче-ские военные значки скифов. «Сам
Колакс собрал воздушных драконов» (Flac. Argon. VI, 55). В
коммен-тариях к этому сюжету сказано, что изображения драконов в
качестве военных значков и эмблем у ски-фов прочно засвидетельствованы
античной традицией.
Действительно, в 137 году н. э. наместник в
Каппадокии Флавий Арриан в труде «Тактика» писал, что аланское войско
имело специальные военные значки, которые «представляют собой драконов,
разве-вающихся на шестах соразмерной длины. Они сшиваются из цветных
лоскутьев, причем головы и все тело вплоть до хвостов делаются
наподобие змеиных, как только можно представить страшнее. Выдум-ка
состоит в следующем. Когда кони стоят смирно, видишь только
разноцветные лоскутья, свешиваю-щиеся вниз, но при движении они от
ветра надуваются так, что делаются очень похожими на названных животных
и при быстром движении даже издают свист от сильного дуновения,
проходящего сквозь них. Эти значки не только своим видом причиняют
удовольствие или ужас, но полезны и для различия атаки и для того,
чтобы разные отряды не нападали один на другой» (Arr. Tact. XXXV, 3–5).
Подобные
сведения мы находим и у армянского автора V века н. э. Мовсеса
Хоренаци. Сообщая о походах алан в Закавказье, он писал: «Вьющиеся на
знаменах драконы с ужасно разинутой пастью, вздуваемые дыханием ветра»
(2, с. 173). Важно отметить, что указанные военные значки под влиянием
скифов, а позже алан, получили широкое распространение в армиях
древности и средневековья (см.: 3, р. 501–512, рис. 592–595).
Благоприятное
стечение обстоятельств сохранило нам форму военных значков. В начале
века из-вестный археолог-кавказовед графиня П. С. Уварова в сванской
святыне Сети Джыраг видела подобное знамя. По ее словам, в былое время
это был боевой стяг. Сшитый из восточной шелковой материи бе-лого
цвета, он изображал льва с открытой пастью, украшенного серебряным
языком и зубами. «В спокойном положении оно висит вдоль древка, как
простое знамя, но, вынесенное на ветер и в особенности приподнятое
седоком при скорой езде, оно вздувается и парит на воздухе, принимая
эластичные формы и движения того чудовища, которое изображает» (4, с.
289).
У алан отмечены и обычные боевые знамена в виде полотнищ
на древках. Сохранились изображения двух из них – на средней и нижней
плитах северной стены так называемого «царского склепа». Склеп давно
привлекал внимание исследователей. Ныне, в реконструированном виде, он
демонстрируется во дворе краеведческого музея в г. Ставрополе. К
сожалению, рельефы этого уникального памятника еще ждут своей научной
интерпретации (5, с. 110, рис. 42/1, 43/2–3).
Традиционные
обрядовые флаги сохранялись в быту осетин вплоть до начала века. В
фондах МЭР в Санкт-Петербурге мне довелось выявить и опубликовать
несколько экземпляров свадебных и траурных флагов. Любопытно отметить,
что первые из них имеют треугольный вырез и два скругленных «хвоста»
наподобие средневековых штандартов. Вторые – обрезанный по косой нижний
угол полотнища или пря-моугольный выступ. Он сближает их с
изображениями аланских знамен на плитах северной стенки упо-мянутого
выше склепа (1, с. 121, рис. 2, с. 127–128, рис. 4–5).
Средневековые
хроники и материалы исторического фольклора позволяют считать знамя как
опре-деленную войсковую единицу. Как показали изыскания Ю. С. Гаглойти,
в армянских хрониках V века н. э. один из крупнейших феодальных родов
Мамиконян называется аланадравшк, что означает «аланское / победоносное
знамя несущий». Представители этого рода были спаспетами – командующими
армян-скими войсками. В грузинских хрониках они именуются ажгаланиани,
что означает «аланского происхож-дения». Действительно, в армянском
языке слово азг имеет значение «родовая группа, происхождение». По
грузинским источникам, в XVII веке осетинский род Агузата (осет. –
Æгъуызатæ, груз. – Иалг’узашвилеби) входили в состав возглавлявшегося
Амилахвари четвертого военного округа садрошо в качестве отдельной
военно-политической части (7, 1. VII. 1989, № 126).
По данным
осетинского фольклора, знамя в военном деле использовалось до недавних
пор, букваль-но до XVIII – первой половины XIX века. В частности, в
героических песнях оно фигурирует как важный атрибут военных походов –
балц. Более того, в системе организации таких набегов выделялся
непре-менный участник – знаменосец (тырыса хæссæг). Функции его были
почетными, ведь само это понятие соответствует понятию «впереди идущий»
(сравни с flagman). Однако данный почет был связан с боль-шой
опасностью, ибо знаменосец одним из первых становился жертвой
противника (1, с. 115–116).
Материалы осетинского языка
подтверждают причастность знамени к военной организации. Такие
на-звания, как «тох кæрдæн / цыты кæрдæн», однозначно свидетельствуют о
ратном деле. Другие извест-ные в осетинском языке названия для знамени
тырыса, æлæм являются заимствованными и связаны с лексикой, касающейся
небесных сил и их культом (8, с. 146–150).
Из всех известных
названий знамени в осетинском языке, выявленных мной и коллегами,
особое внимание привлекает слово из фольклорно-этнографических текстов
М. К. Гарданти. Перед военным набегом участники его давали клятву
верности и обещали быть друг другу братьями и верными друзья-ми, не
бросать раненых и убитых врагу. По словам известного осетинского
бытописателя М. К. Гарданти, клятва закреплялась прикосновением к
знамени. Любопытно подчеркнуть его название – «g’olon ğ’elæ / qulon
qil», что в дословном переводе означает «пестрый шест».
Названный
факт культуры не детализирован, и в работе нет его описания. Каждому
осетину оно было известно, и подробное описание устройства знамени было
излишним. Но вот о сакральных функциях и большой культовой значимости
говорится чуть подробнее. Участники клятвы, сложив возле знамени свое
оружие, стояли вокруг. По старшинству прикасались к нему правой рукой и
шепотом говорили «Клянусь, своих товарищей не выдам, раненого товарища
спасу от врагов, а тело убитого предам зем-ле». Участники клятвы на эти
слова отвечали – «оммен / да будет так» и разбирали свое оружие,
сло-женное под «гъолон гъелæ». После чего брали друг друга за руки и
говорили: «Будем братьями и защи-тим себя как дети одних родителей» (1,
с. 116; 8, с. 147).
Представляется, что отмеченная в названии
пестрота является не случайным, а закономерным явле-нием. Обратимся к
известным нам фактам и убедимся истинности данного заявления. Античный
автор II века н. э. Арриан писал, что боевые значки алан «сшиваются из
цветных лоскутьев» (подчеркнуто мной. – В. У.). дошедшие до нас
музейные экспонаты также представлены двух- и даже трехцветными
образцами традиционных обрядовых знамен (1, с. 123, 127). Любопытно
отметить, что пестрота знамени отмечена и грузинским лексикографом
XVIII века Сулхан-Саба Орбелиани. Определяя значение понятия «дроши /
знамя», он писал: «П’ерад-п’еради гундта сацнобэли / p’erad-p’eradi
gundta sacnobeli». В пере-воде это означает «разноцветный / пестрый
указатель группы отряда» (см.: 10, с. 315).
В. Уарзиати
Источник - Анахарсис
|
| Категория: Культура Осетии | Добавил: ALANIUS (12.12.2007)
|
| Просмотров: 1592
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] | |
 | |  |
|
 |
| Статистика
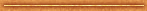 | |

Сейчас на сайте: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
 |
|






